
Телезвезды: Михаил Кожухов Интервью журналиста-международника и бывшего собкора «Комсомолки» в Афганистане
Мы говорим как есть не только про политику. Скачайте приложение.
В последние годы Михаил Кожухов стал популярным телевизионным путешественником, показывающим нам страны, в которых мы вряд ли когда-нибудь окажемся. «Тот самый усатый мужик, который ездит по миру и ест на камеру тараканов», — говорит он о себе. Помимо программ о путешествиях Кожухов вел «Старую квартиру», «Сделай шаг» и ряд других телепередач. Бывший собкор «Комсомольской правды», четыре года писавший о войне в Афганистане, «известинец» в Латинской Америке, Михаил Кожухов рассказал в интервью Наталии Ростовой (автору сайта «Рождение российских СМИ: эпоха Горбачева») об афганской «немой войне», своей встрече с Аугусто Пиночетом, причинах ухода из международной журналистики, а также о том, почему он не вспоминает, как работал пресс-секретарем Владимира Путина.
«Телезвезды» — серия разговоров «Медузы» с выдающимися российскими теледеятелями последних 25 лет. Первую беседу — с ведущим «До и после полуночи» Владимиром Молчановым — читайте тут.
— Вы много лет занимались путешествиями. Уход от политических тем, от актуальной журналистики — это сознательное решение?
— Вы знаете, по изначальной профессии я — международник с узкой специализацией. Я — латиноамериканист. Когда-то, мне казалось, я был среди тех, может, лучших пяти, кто знает Латинскую Америку и умеет о ней рассказывать. Когда в стране начались перемены, обнаружилось, что гибель дворника в собственном дворе заботит людей куда больше, чем гибель сотен тысяч людей от голода в далекой Африке. И осталось очень немного тех, а, может быть, и никого, кому было бы все еще интересно узнать о пограничном конфликте в какой-нибудь Бразилии или в Перу. Словом, возникло ощущение, что международная журналистика вообще никому не нужна.
То, что я пытался изменить профессии и на несколько лет ушел в рекламу, в какой-то степени связано с этим. А то, что я стал заниматься путешествиями, а не сельским хозяйством или чем-нибудь еще, — абсолютная игра случая. Долгое время был без работы, и так сложились обстоятельства, что я случаем воспользовался — надо было зарабатывать на хлеб. Так что это не было сознательным выбором, сознательным уходом в какие-то лагуны, свободные от дыхания политики. Впрочем, я скорее благодарен судьбе за то, что так произошло.
До путешествий я занимался другими вещами. Я вел программу «Сделай шаг» — о людях, которые совершают неправильные, по мнению большинства, поступки в критических обстоятельствах, вел «Старую квартиру» после смерти [Григория] Гурвича и делал много других проектов, которые не имели отношения к путешествиям.

— Вы никогда не говорите об этом, а я, конечно, очень хочу, чтобы вы рассказали — о вашем небольшом сроке пресс-секретарства (Кожухов был пресс-секретарем премьер-министра Владимира Путина с ноября 1999-го по январь 2000-го — прим. «Медузы»). Вы говорите в нескольких интервью, что было интересно, что от такой возможности — посмотреть на власть изнутри — вряд ли бы кто-то отказался. Но то, что вы увидели изнутри, было настолько страшным, что вы не хотите об этом рассказывать?
— Я не хочу рассказывать по другой причине. У каждого из нас свои представления о морали. У меня такое представление, что если ты, находясь в Белом доме или Кремле, говоришь одни вещи, а потом вдруг, оказавшись за стеной, за стенами, достаешь фигу, то это странно. Если конфликт был всегда, то что же ты фигу не показывал раньше? А если ее и не было, то что же сейчас изменилось в твоей жизни? Я воспринимаю это как некие внутренние представления о прекрасном, которым я стараюсь не изменять на протяжении всей своей жизни, вне зависимости от того, что я делаю — говорю от имени первого лица в государстве или чищу на камеру ботинки в Каире.
Это не было страшно, нет. Было занимательно. Любому думающему человеку, мне кажется, интересно посмотреть, кто принимает решения, кто эти люди, которые посматривают на нас, как это все устроено. Для журналиста это счастье — заглянуть за ту занавесочку. Мне удалось.
— Да, но для журналиста так же и счастье поделиться знанием со своей аудиторией.
— Я вряд ли могу добавить что-то к тому, что говорю всегда. Главных выводов два. Первый: горшки обжигают не боги, а сотрудники питерской мэрии. Оказавшиеся там волею случая, благодаря выбору нескольких людей, и — далеко не самых умных, образованных и ответственных, и тоже случайно оказавшихся в окружении Ельцина. Второе потрясение заключается в том, с какой готовностью те, кто и сегодня причисляет себя к политической элите, и кто существовал уже тогда, 15 лет назад, теряли достоинство, встречая меня в первой приемной, рассчитывая на мою близость к телу, на мою вхожесть в кабинет, на какое-то особое отношение. На это было смотреть вообще противно.
— Человеческое искушение у вас, наверное, тоже было громадным?
— Во-первых, я был недолго, около полугода. А во-вторых, будете смеяться, но когда я соглашался на это предложение, то главным аргументом было, что лучше уж пойду я, а не какой-нибудь идиот. И думал я не о зарплате, не о возможности отпилить кусочек большой родины, а о том, что реально смогу оказаться полезнее, чем многие другие.
Конечно, я прикоснулся к этому наркотику власти, но все-таки меня голыми руками не возьмешь. К тому времени я уже многое попробовал, я был ведущим, меня узнавали на улице, и космической перегрузки от этого взлета у меня не было. Я оказался сильнее соблазнов, и, может, в этом и кроется причина того, что этот опыт оказался таким непродолжительным.
— Простите, но вы производите впечатление человека настолько нормального, что, наверное, там и не могли оставаться долго.
— Видимо, нет. В том, что я нормальный, у меня сомнений нет. Потом я, конечно, болезненно переживал эту неудачу. Я ее не планировал, не сделал ничего такого, что ее вызвало. Но я объяснил себе, что глупо спорить о том, какая рыба лучше — судак или щука, просто эти рыбы предпочитают разные места реки. Судак живет в фарватере, а щука — в камышах, но и та, другая — хищники, и та, и другая — вкусные. Просто я был не того поля ягодка.
Вообще я думаю, что приглашать журналистов на эту должность — плохая идея. Если абстрагироваться от личных симпатий, то вы будете вынуждены признать, что журналисты Павел Вощанов, Дмитрий Якушкин и Михаил Кожухов оказались на этих должностях менее успешными, чем карьерные дипломаты и чиновники Сергей Ястржембский, Алексей Громов и Дмитрий Песков. Последние больше запомнились, их фразы остались в общественной памяти, они лучше справлялись со своими функциями. У меня есть подозрение, что это работа не для профессионального журналиста, что человеку, проработавшему какое-то время в газете, на телевидении, уже трудно говорить от чужого лица, трудно выдавить из себя привычку к воле, которую все-таки наша профессия вырабатывает. Одним словом, да здравствуют чиновники на должности пресс-секретарей первых лиц!
— Эта работа, конечно, к журналистике никакого отношения не имеет.
— Весьма косвенное, да.
— А вы согласны, что главная цель журналистики — стремление к правде, и в этом кроется конфликт с пресс-секретарством?
— Возможно, хотя мне больше нравится другая формула, которую я услышал от американской журналистки, фрилансера и фотографа Джоанны Шнайдер, с которой я познакомился в Афганистане. Когда я спросил ее, для чего нужна журналистика, она, не задумываясь, ответила: «Для того, чтобы напоминать власти о долге, а обществу — об идеалах». Я не знаю, может, их учат этому, а может, она сама придумала такую трактовку, но я под ней подписываюсь. Хотя и она — тоже про правду.
— Мы остановились на том периоде, когда вы поняли, что международная журналистика уже не нужна.
— Этот период продолжается по сей день. Хотя я и не являюсь поклонником былых времен, но считаю, что мы многое выплеснули вместе с водой, многих детишек из ванночки. Были времена, когда международная журналистика была отдельной специализацией в рамках профессии.
Я однажды присутствовал на юбилее Станислава Кондрашова, «известинца», специалиста по Соединенным Штатам. Среди прочих людей там были ветераны внешней разведки, и один из них работал как раз в Штатах в одно время с Кондрашовым. Он признался, что однажды принес телеграмму в центр, а начальник ему ответил, что знает, что Кондрашов работает над этой темой. Начальник посоветовал дождаться, когда появится публикация в «Известиях», чтобы свериться — и только после этого отправить телеграмму. Вот такой был уровень компетенции.
Люди моего поколения могут этот ряд продолжить. Владимир Цветов — Япония, Всеволод Овчинников — та же Япония и Китай, Фарид Сейфуль-Мулюков — Ближний Восток. Это крутейшие спецы и профи, которые не только знали предмет, но и блестяще владели словом. Сегодня таких людей нет, или их крайне мало. Сегодня есть бойкие люди, которые способны рассказать о захвате какого-нибудь посольства в Перу или землетрясении в Японии, но их беда в том, что они не знают контекста, для них происходящее — просто люди, фамилии, факты. Это то же самое, как если бы к нам приехал ничего не знающий француз или американец, и попытался бы понять Россию. Он видит только внешнее, случайное, то, что попадает в газеты, но не понимает истинных пружин. А этим нужно заниматься какое-то время, как и в других сферах нужно понимать, чем трактор отличается от комбайна, а скрипка — от альта. Никаких других секретов нет, но желательно это знать.

— Вас растили. Международное отделение журналистики, например — специальное, куда берут только мальчиков, где серьезная подготовка, где есть связь с военными. Представить, что советский журналист-международник, особенно в зонах военных конфликтов, был далек от органов, все же сложно. Как это было у вас?
— Я заканчивал иняз, а не факультет журналистики. И там тоже была страноведческая подготовка. На третьем курсе я получил тройку за то, что, прочитав на языке оригинала «Песнь о моем Сиде», отказался отвечать на вопрос о том, что произошло с суффиксом «era» в XVI веке. Подготовка была приличной. Ну, а то, что журналистика, особенно собкоры, соприкасались со спецслужбами, думаю, ни для кого не секрет. Иногда они были кадровыми сотрудниками, иногда помощниками, иногда свидетелями. Но это вроде бы все знают.
— И есть такая двоякость: с одной стороны — спецы-профессионалы, а с другой — противоречие целям профессии, она — всего лишь прикрытие.
— Я знавал многих сотрудников внешней разведки, которые работали под прикрытием журналистов, и среди них попадались как абсолютные бездари в словесности, так и те, кто писал даже лучше тех, кто во внешней разведке не работал.
А если вы хотите спросить, являюсь ли я офицером разведки, я отвечу, что нет — и никогда не был. При этом скажу, что если когда-нибудь кто-нибудь станет вам рассказывать о своей причастности к спецслужбам, то надо заканчивать с ним разговор, к ним он не имеет никакого отношения.
— Я-то и не пытаюсь об этом спросить. Считаю это бессмысленным.
— Хотите — верьте, хотите — нет, я когда-то мечтал о нелегальной разведке и, может быть, у меня были для этого хотя бы языковые способности. Мне казалось, что это очень романтично. Но меня туда не позвали, а свои кандидатуры туда не выдвигают.
— А есть, как вы думаете, какие-то шансы, что международная журналистика в России возродится, или школа утрачена насовсем?
— Это все-таки не академическая наука, она намного проще. В девяностые годы, когда в стране стали происходить драматические перемены и всем было непонятно, что с нами будет, та, старая журналистика умерла. Умерла журналистика очерка, журналистика, которая исследовала гоголевского Акакия Акакиевича и вела свое происхождение от великой русской словесности. На ее место пришли отчеты о каких-то пресс-конференциях начальников. Это было отчасти оправдано — от этих начальников очень многое тогда зависело, от них ждали откровений. А вместо очеркистов востребованными стали те, кто хоть что-то понимал про ваучеры, проценты и займы. Все жанры свелись к отчетам: «Такой-то сказал то-то и пообещал это».
— Это, между прочим, новостью называется.
— Может быть, это называется новостью, но из этой новости ушла ирония, ушла словесность, ушла стилистика, и надолго ушла. Потом они стали потихонечку возвращаться, хотя и не в той мере, что прежде. Сейчас обнаруживаю, что коллеги способны элегантно написать даже о том, что вообще не поддается журналистскому отчету. Например, о прямой линии президента.
Журналистика по-прежнему существует, хотя и тогда многие коллеги возвещали о смерти профессии. Она пытается выжить даже в сегодняшних правилах игры. У кого сегодня поднимется язык сказать, что ее нет, когда остается и «Новая газета», и «Дождь», и многие другие издания? Есть если не каналы, то хотя бы программы, если не в Москве, то хотя бы в регионах.
— В том числе и стремление государства контролировать прессу привело к тому, что эту жизнь начинают сравнивать с Советским Союзом. Вы — человек, который хорошо помнит, что это такое. Как вы отвечаете на вопрос о различиях?
— Главная похожесть заключается в том, что, как и в те времена, жизнь разделилась на «нас» и «их». Мы живем какой-то своей жизнью и нас останавливают гаишники, чтобы дать проехать кортежу. Они принимают какие-то решения, обсуждают какие-то вещи, которые нас совершенно не касаются. А мы выживаем, кто как может. Мы — про свое, они — про свое. В перестройку такого не было — и мы, и они были про одно и то же.
Но все-таки пока время еще не окончательно все вернуло на свои места. Не все из нас, но некоторые могут еще ездить, смотреть мир, зарабатывать деньги, обустраивать свою жизнь, насыщая тем уровнем комфорта, который требуется. Все-таки пока еще пусть трудно, но есть воля для частной инициативы, для предпринимательства. Все-таки душно, но пока еще можно ходить без противогаза.
— Эта аналогия с Союзом приходит еще и в связи с нынешними войнами. Советский Союз признал количество потерь в Афганистан только в 1989-м.
— В 1988-м, если быть точным (действительно, Советский Союз в лице генерала армии Алексея Лизичева впервые объявил о потерях в этой войне 25 мая 1988-го: 13 310 убитых, 35 478 раненых, 311 пропавших без вести — прим. авт.). У меня с этим даже связано воспоминание. Я пришел к командующему армией Борису Громову. Между нами была дистанция, но были очень доверительные отношения. Я ему сказал: «Борис Всеволодович, я не верю в эту цифру». Он подошел к сейфу, открыл его, достал стопку тетрадей с грифом «Совершенно секретно» и сказал: «А мне поверишь? Хочешь, пересчитай сам». Конечно, я не стал этого делать. Поверил, что даже при том уровне статистики, привыкшей врать, армия сделала максимально честный подсчет, насколько это было возможным.
— Эта аналогия возникает сейчас в связи с тем, что государство вновь закрывает данные о потерях, даже в мирное время, указом президента. Видите ли вы эту связь времен, традицию освещения военных конфликтов у нас? Одинаково ли оно, вне зависимости от времени? Есть ли что-то общее?
— Если сравнивать с афганской войной, то тогда все было жестче. Ни одно упоминание об Афганистане не могло быть опубликовано без печати военного цензора. Сейчас коллеги передают из Дамаска, еще недавно передавали из Донецка, не сверяя свои тексты с военной цензурой. Ее, к счастью, нет. А с другой стороны, я вспоминаю о том, что во время операции «Буря в пустыне» существовали довольно жесткие цензурные ограничения в Соединенных Штатах, насколько мне известно.
Вообще же, у Хемингуэя есть рассуждение о том, что война — это всегда ложь, и чем быстрее писатель научится врать на войне, тем больше у него шансов на успех. Думаю, в новейшей истории не было войн, когда бы правительства в них участвовавшие, не пытались бы ограничить информацию по своему усмотрению. Я во всяком случае таких не знаю. Это плохо. Но, видимо, данность, и не только наша.
— В вашей книге о войне в Афганистане [«Над Кабулом чужие звезды»] есть абзац о том, что нельзя было передавать. «У меня четкие, полученные в Москве полномочия, — пишете вы, — рассказывать о лучших качествах советской молодежи. Я могу описывать боевые действия подразделений „до батальона включительно“. Никаких названий частей и привязок к местности. Слова „полк“, „дивизия“, „генерал“, „плен“, „дедовщина“ и тому подобное исключить — чтобы не догадались шпионы, что у нас в Афганистане есть дивизии и генералы. Соблюдать баланс: только один убитый и не более двух раненых в каждом репортаже. „Но можете, — лично инструктировал меня Владимир Севрук, завотделом прессы ЦК КПСС, — рассказать о наших госпиталях, об увековечивании памяти погибших водителей колонн“. И вообще поменьше о войне, побольше о мирной жизни, о социальной базе Апрельской революции — она расширяется неуклонно…» А зачем вообще тогда посылать на войну журналистов?
— Тогдашний я отвечал на этот вопрос определенно. Мне казалось, что мое предназначение в том, чтобы завтра, открыв газету, какой-то человек увидел родное имя, хоть что-то узнал бы о своем муже, сыне, брате — геройском человеке, совершившим подвиг, о воине, о мужчине. Я старался рассказывать об этом. Было бы странно, если бы я начал размышлять в газете о целесообразности вторжения советских войск в Афганистан. Я бы вылетел из Кабула, из газеты и из партии на следующий день. И что же?
Да, это была эпоха конформизма, когда ты заключал сделку с собственной совестью, сам определял границы этой сделки, и либо писал передовые, прославляя заслуги Генерального секретаря Коммунистической партии, либо отказывался писать такие передовицы и находил что-то другое, где ты мог остаться самим собой. Подозреваю, что такой выбор есть и сейчас. Он всегда есть. Выбор, говоря словами Горького, между соблазном «жить лучше или лучше быть». Я даже убежден, что этот выбор обязателен для этой профессии. Он неизбежен для пишущего или говорящего в камеру. И как ты отвечаешь на этот вопрос — твой личный выбор, он трудный, но неизбежный.
Могу ошибаться и, может, я начинаю себя идеализировать, но что-то не припомню я, чтобы сказал или сделал такое, за что мне было бы мучительно стыдно сегодня. Не говорил. Может, уходил в тень в какой-то момент. Может, это было не благородно и не отважно… Но вот так я отвечаю на этот вопрос.
Не знаю, насколько это интересно и уместно, но у меня есть одно воспоминание. Когда после Фестиваля молодежи и студентов в Москве я принес интервью какого-то никарагуанского патриота своему редактору, он спросил, почему я не пишу, как тот отреагировал на доклад, уж не помню кого — того, кто тогда командовал парадом. Я ответил, что не говорил с ним об этом. Он сказал: ну тогда впиши. Я сказал: ну как же я впишу, если мы об этом не говорили? Он ответил: ну тогда я не смогу этого напечатать. Я сказал: ну хорошо, выбросьте это в корзину.
Да, был кто-то, кто приковал себя к ограде Собора Василия Блаженного, когда войска вошли в Чехословакию. Они, конечно, более замечательные люди, чем я. Но таких людей всегда мало. Я, к сожалению, не такой герой. Хотелось бы…
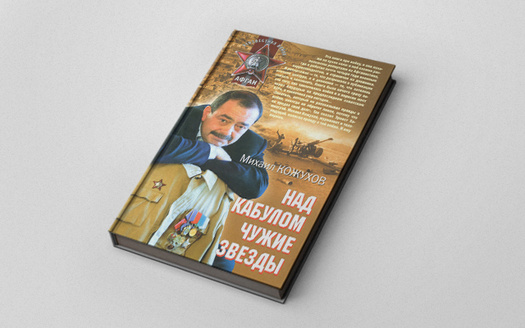
— Ой, совсем ведь не к тому мы говорим, совсем не к этим сравнениям… Конечно, невозможно было тогда ничего напечатать, будучи журналистом, невозможно было быть критичным. Это же целая система, которую нельзя было сломать до прихода Горбачева.
— Нет, конечно. Когда я уехал в Афганистан, я мог подписаться только «спецкором в Кабуле», потому что был только кандидатом в члены КПСС. Чтобы получить право подписываться «собственным корреспондентом в Кабуле», мне пришлось вернуться в Москву, довступить в партию, после этого вернуться в Кабул, в ту же квартиру, в ту же пыль, в ту же грязь, в ту же кровь. Эта должность считалась номенклатурой ЦК КПСС. Такова была система гарантий благонадежности, и журналистов в том числе, так было все устроено.
— Правильно я поняла, что своей задачей вы видели описание доблести солдат, которые попали на эту войну?
— Можно сказать и так. Пожалуй, и так.
— У вас есть в книге интересное сравнение. Вы приводите цитату начала века, Ларисы Рейснер о войне: «В сущности Восток был немой». И говорите: «С другой стороны, нам тоже похвастаться нечем. Не написано здесь ничего, что могло бы встать вровень с „Землянкой“ или „Жди меня“ Константина Симонова. Среди афганских напевов, которые „шурави“ переписывают друг у друга на магнитофоны, лишь изредка слышатся строки, которые имеют отношение к поэзии. На мой вкус, из имен всех афганских бардов останутся только три: Юрий Кирсанов, Игорь Морозов и Виктор Верстаков. Первые два воевали здесь в спецподразделениях КГБ, Верстаков работает в „Правде“. Выходит, и для нас эта война — тоже „немая“».
— Да, потому что все равно есть недосказанность. Есть ощущение того, что не сказал, что был обязан сказать. Не мог, но ведь это никого не интересует сейчас, по прошествии времени. Крест невысказанности все равно никуда не исчезает. И ты это воспринимаешь как свой промах, свою вину, свою недоработку.
— Жизнь ваших коллег-журналистов, которые тоже были в Афганистане, как сложилась?
— Из тех, кто там работал постоянно, никто не сумел воспользоваться этим багажом в своих карьерных интересах. Ни один человек. Как-то все они, вернувшись, растворились, были изгнаны с экранов. Изгнали с телеэкрана Михаила Лещинского, которого обозвали афганским соловьем. Ушел в тень Вадим Окулов, представлявший «Правду». Ушли «известинцы».
А большую славу снискали те, кто приезжал на несколько дней и недель. Я дружил с Артемом Боровиком. В последний свой приезд в Кабул, когда тот был уже никому не интересен, он жил у меня в корпункте, то есть в моей кабульской квартире. И когда вышла его книга, я улыбнулся ее началу. Я теперь уже не вспомню, писал он, сколько часов я провел на аэродромах Шинданда, Кандагара и Мазари-Шарифа. Я с трудом удержался, чтобы позвонить и сказать: «Тема, не помнишь? Могу напомнить. Ну, часа три-четыре, наверное, в общей сложности?» Это не отменяет качества того, что он написал.
— И Проханов ведь именно тогда стал известен?
— Да. Проханов, кстати — блистательный стилист. Я вообще считаю, что журналисту не зазорно учиться, особенно на первых порах, когда он ищет свою интонацию, манеру. Я не стесняюсь сказать, что вырезал в том числе и очерки Проханова — из Анголы, Никарагуа, Афганистана. Мне близка была романтика этих революционных преобразований, эта мужская притягательность битвы. Мне очень нравилось, как он это делал.
Потом было обидно обнаружить себя в качестве персонажа одного из его романов, «Теплоход „Иосиф Бродский“», в котором вся нынешняя элита плывет на свадьбу к Собчак, а я их якобы развлекаю и умираю, подавившись жареным тараканом. Когда я ему сказал: «Александр Андреевич, ну что же вы так нехорошо обо мне, мы же столько лет с вами знакомы…», он принял позу памятника и ответил: «Ну, а что вы, Миша, обижаетесь? Это же пиар». Он неоднозначный персонаж.
Не скажу, что мы поддерживаем отношения или дружим, мы видимся пунктирно, раз в несколько лет, но однажды, когда вышла его книжка «Господин Гексоген», он меня спросил: «Что я могу сделать для вас, Миша?» «Александр Андреевич, — ответил я ему, — у меня есть к вам просьба. Можно словосочетание „жидомасонский заговор“ в следующем романе будет не на каждой странице, а хотя бы на каждой пятой?» Ему стало неловко, он опустил глаза и сказал: «Ну, перестаньте, вы же понимаете, это конъюнктура. Вы же не думаете, что я действительно так считаю?» Проханов — персонаж сценический, придуманный. Он серьезнее того образа, который создал в ток-шоу.
— И в который он вжился уже, наверное?
— И в который вжился, и потерял грань между выдумкой и реальностью.
— А как вы восприняли приход Горбачева и этот слом? Когда вы поняли, что что-то меняется всерьез?
— Это произошло во время литовских событий, я помню хорошо. Я был в Бразилии в этот момент, работал собственным корреспондентом «Известий». Меня настолько это задело, что я отказался платить членские взносы в партию, чем вызвал скандал в совзагранучреждении. Тогда я понял, что что-то начало меняться.
Надо сказать, что и мое отношение к Горбачеву поменялось очень сильно. Тогда я сердился на него изо всех сил, как многие из нас. Мне казалось, что он не догоняет, не успевает за временем. Мне казалось очевидной необходимость совершать какие-то шаги, чтобы создать на развалинах СССР некое подобие Европейского Союза, некую конструкцию, которая смогла бы удержать хотя бы экономические связи между развалившимися частями. Меня сердила его болтливость, его интонации. А сейчас, по прошествии времени, я обнаруживаю, что в общем-то ничего, кроме благодарности у меня к этому человеку нет.
— Вы известны еще и тем, что взяли первое интервью у Пиночета. Действительно были им очарованы?
— Да нет, конечно. И никакого такого уж большого впечатления он на меня не произвел. Более того, во время этого разговора я подумал, что, может, действительно Пиночет не был идеологом путча, что его готовили другие, а он был компромиссной фигурой. Он — обычный генерал, не лучше и не хуже других.
Что в нем выдающегося, так это три пункта. Во-первых, он лично возглавлял конституционную комиссию, которая в новой конституции Чили предусмотрела плебисцит 1979 года, назначила выборы и записала, что, если на них победит оппозиция, то военные уйдут. Пиночет стал единственным диктатором в новейшей истории, который ушел добровольно.
Второе. Я специально интересовался у Эрнана Вихи, который был отцом чилийского «экономического чуда» и министром экономики в его правительстве, в какой степени Пиночет влезал в работу молодых экономистов. Ответ был — ни в какой. Он их назначил, вызвал, дал полгода на то, чтобы разобрать хаос после предшественника, но ни разу не дал никакого совета, не совал свой нос туда, в чем не понимает. На нашем фоне, когда учат крестьян, что им сеять — озимые или яровые, как отапливать котельни, мне это тоже нравится.
Наконец, в-третьих, перед тем как уйти, он очень строго предупредил, что если хоть один волос упадет с головы его людей, он вернется. Таким образом он избавил Чили от периода сведения счетов, а экономическая политика военных не претерпела изменений, когда к власти пришли гражданские. И Чили продолжал еще по инерции оставаться в лидерах.
То, что я просил у него прощения, — правда. Я действительно написал про него много глупостей, про ужасные преступления, которых не было, про то, что его сын построил двухэтажный дом под Сантьяго. Тогда это было плевком в лицо прогрессивному человечеству, а на фоне сегодняшних дворцов это просто смешно. Но главное — я был поставлен в жесткие рамки. У меня было полторы минуты на встречу и мне как-то надо было заставить генерала захотеть со мной говорить. И попросить у него прощения было первой спасительной мыслью, которая пришла мне в голову.
— А в чем был скандал? Что было в интервью такого, что до сих пор о нем пишут как о скандале?
— Фильм состоял из монологов самых разных людей, которые то хвалили Пиночета, то ругали, то нейтрально отзывались. Он вышел в воскресенье, в полдень, когда ничего не происходило. Это был 1994 год, когда [иностранные] корреспонденты, работавшие в Москве, в отличие от сегодняшних, редко говорили по-русски. И в результате появилось сообщение испанского агентства EFE, которое подхватили другие информационные агентства, а затем — многие газеты. А главная испаноязычная газета Santiago de la Hora опустила шпигель и над ним аршинными буквами написала: «Россия просит прощения у Пиночета». Российский посол, естественно, чуть не умер от ужаса, послал телеграммы верхам — президенту, премьеру, председателю КГБ, или как он там назывался. Меня же от смерти спало только то, что на дворе шел 1994 год и страна со скрежетом менялась.
— Я читала о пресс-туре, в котором оказались несколько в ту пору либеральных журналистов, которые примерно тогда и начали взывать к опыту Чили и призывать Пиночета. Среди них был Михаил Леонтьев, например. И это им поминают до сих пор.
— Про Леонтьева не помню, но тогда меня пнул большой демократ [Сергей] Брилев, который работал в газете «Московские новости». Он написал целую колонку о том, какой Кожухов нехороший, какой он апологет чилийской военщины. И, конечно, удивительно смотреть за метаморфозами, которые произошли с ним, да и со многими другими коллегами.
— В России надо жить долго…
— Тогда, в этом хаосе, Пиночета частенько вспоминали, страна трещала по швам, и многим казалось, что только твердая рука способна страну привести в чувство. В общем-то, и в кино этом, к 20-летнему юбилею переворота, я больше делал о нас, чем о чилийцах. Мне хотелось рассказать, какой травмой обернулся приход военных к власти, каким шрамом он остался в чилийской памяти, и этот шрам болит у очень многих людей до сих пор. Но, как меня тогда убедил [чилийский экономист] Эрнан Бихи, важно не то, в каком костюме правительство, а то, что оно делает, важен смысл перемен — куда они, к чему и как проходят.
Если вспоминать политические карьеры наших военных, то, пожалуй, не вспомню ни одну, которая была бы абсолютно успешной — Александр Лебедь, Лев Рохлин, Борис Громов. Никто из них не стал ни Пиночетом, ни спасителем нации. Наверное, как журналисту стоит держаться подальше от соблазна стать пресс-секретарем первого лица, так и военным лучше держаться от соблазна возглавить страну. Что-то не помню я примеров, когда профессиональный военный привел свою страну к абсолютному, безусловному успеху.
— А сотрудник спецслужб?
— Не про всех знаю, но что-то на памяти тоже нет ни одного.
— Не могу не спросить вас — как журналиста еще той «Комсомолки». Как вы воспринимаете ту трансформацию, которая произошла с газетой?
— Это другая газета, которая присвоила себе название старой. Конечно, от той «Комсомолки» ничего не осталось. Это была удивительная команда. Я там проработал семь лет, и каждый день, в течение семи лет, ходил на работу как на первое свидание. Была потрясающая атмосфера на шестом этаже, где Василий Михайлович Песков мог похлопать тебя по плечу и поздравить с удачной подписью к фотографии. Где раз в неделю ты искал свое имя на доске лучших материалов или удостаивался разбора на летучке, которую проводила, например, Инна Руденко, отмечая твою публикацию. Это была профессиональная школа, где никто тебя не учил, но у тебя был шанс научиться самому. Все друг за другом приглядывали, каждая публикация более талантливого коллеги воспринималась как заочный вызов на дуэль. Был большой витамин роста — белая зависть, умение восхититься коллегой. Кроме того, там была жизнь.
Сейчас, приходя в газеты или информационные агентства, я вижу, как люди сидят, уткнувшись в компьютеры, они не общаются между собой и торопятся домой. Мне на это смотреть странно. Мы оставались после работы. Выпивали, дурили, ездили за елками, ходили в не очень добровольные народные дружины, участвовали в капустниках. Все вместе порождало профессиональные бактерии, которыми мы обменивались и заряжались. Я не вижу этого сейчас. Может, я старая галоша… Но мне кажется, отсутствие этого бактериального обмена — к худшему, это потеря. Хоть труд этот и индивидуальный очень, он все же цеховой.
Есть одно важное профессиональное качество — мучиться от комплекса неполноценности, точно понимать пределы своих способностей с одной стороны, но и объективно оценивать свое место на какой-то общей системе координат — с другой. И это можно почувствовать, когда ты работаешь в цехе, гильдии, в какой-то коммуне. То же, кстати, было и в «Известиях» эпохи перестройки, когда кафешка гудела и было вообще непонятно, когда же выпускали газету. Мы сидели там, обсуждали судьбы страны, действительно ощущали себя четвертой властью. Меня просили написать колонку о том, что Россия подписала международную конвенцию о свободном въезде и выезде, и я правда чувствовал себя королевским глашатаем, который вышел на площадь и объявил об этом всем. Мне казалось это важным. Во всем этом я вижу некий смысл и большую профессиональную пользу, в отличие от нынешнего одинокого журналиста за компьютером. Но, может, я чего-то не понимаю.
Наталия Ростова
Старший корреспондент Slon.ru